
19 мая 2021
Коммуналка Страны Советов
Она была и горестью, и счастьем миллионов советских людей. Многонаселенная, с общей кухней и бесконечными коридорами, сейчас она вызывает лишь жалость к тем, кто там проживал. До 5 июля в Ярославском музее-заповеднике работает эпохальная выставка «Коммуналка Страны Советов».Эх, привольно мы живем…
Здесь можно совершить путешествие во времени из 20 – 40-х годов XX века в 50 – 60-е, а затем в 70 – 80-е и узнать, как жили и о чем мечтали люди разного социального положения. Революционное решение квартирного вопроса началось с «реквизиции квартир богатых для облегчения нужд бедных». В 1919 году Наркомздрав определил санитарную норму жилой площади на человека – 18 квадратных аршин (9,1 кв. м). Все излишки подлежали изъятию. Неимущие граждане и прибывающие из деревни «новые пролетарии» обеспечивались жилплощадью за счет владельцев многокомнатных квартир. Самые дорогие и памятные вещи для владельца переезжали в одну комнату, «уплотняясь» вместе с хозяевами. Начался жилищный передел, из-за которого слово «дом» на долгие годы заменилось неслыханными доселе «жилплощадью» и «квадратнымиметрами».
Большие комнаты в 25 – 30 кв. м делились перегородками на отрезки площади в соответствии с установленной нормой. Голод и поборы военного коммунизма, жажда наживы эпохи НЭПа, индустриализация и принудительная коллективизация гнали людские потоки в крупные города. Люди устраивались работать на заводы, фабрики, стройки и после мытарств по инстанциям оседали в коммунальных квартирах.
Санитарные нормы к 1930 году были снижены до 5,5 кв. м – Москве, 3,5 – в Челябинске, 3,4 – в Красноярске, а в Донбассе и вовсе 2,2. Острый жилищный вопрос воплотился в частушке: «Эх, привольно мы живем, как в гробах покойники: мы с женой в комоде спим, теща в рукомойнике». Зощенко, который свой особый язык почерпнул в коммунальной квартире Дома искусств, не преувеличивал, когда поселил своего героя в барской ванной комнате. Бывшие крестьяне впервые увидели ватерклозет, текущую из крана воду, телефон и прочие блага цивилизации. А поскольку это не свое, а общее, то и отношение было соответствующим: грязь в общих коридорах, зловонные туалеты, засоренная канализация, отбитая керамическая плитка, выщербленный паркет, разбитые гранитные(!) лестницы подъезда.
К. И. Чуковский в 1923 году писал: «В Москве теснота ужасная: в квартирах установился особый запах от скопления человеческих тел, каждую минуту слышно спускание клозетной воды, клозет работает без перерыва. И на дверях записки: один звонок – такому-то, два – такому-то...».
Соседями по квартире принудительно становились бывшие дворяне и крестьяне, рабочие и служащие, интеллигенция. Тогда же в обиход вошло выражение: поссориться как хозяйки на коммунальной кухне»! Ничтожный повод мог спровоцировать всеквартирный скандал. Будни такого общежития увековечены в карикатурах «Крокодила». Например, «Маленькие разногласия на общей кухне по поводу исчезновения одной иголки для прочистки примуса». Правда, отношения между соседями все-таки регулировались «Правилами внутреннего распорядка в домах и квартирах», и квартироуполномоченный, который избирался жильцами, отвечал за соблюдение этих правил, за оплату счетов и в целом приглядывал за соседями.
Но правила помогали мало, как и примирительно-конфликтные комиссии по жилищным делам, появившиеся в 1927 году. И все-таки для тех, кто вселился в хорошую, светлую комнату из подвала или хибары, для приехавших из деревни «безквартирников» жизнь в коммунальной квартире была счастьем.
А завтра была война
Ярославль не стал исключением. В годы первых пятилеток появились целые жилые комплексы: на проспекте Шмидта (ныне проспект Ленина), в Бутусовском поселке и др. В структуру жилых массивов предусматривалось включение элементов социально-культурного назначения. При распределении жилья действовал жесткий классовый принцип. Большую часть получали рабочие, остальное отдавали красноармейцам и служащим, живущим в неблагоприятных условиях.К началу 30-х в старом фонде практически не осталось отдельных квартир, а те, что строились, были исключительно привилегией новой советской элиты – партийной верхушки, стахановцев, выдающихся деятелей культуры. Жители коммунальных квартир стали привыкать к вынужденному добрососедству. Как верно подмечено: «Живя долго вместе и рядом, нельзя оставаться чужими».
...А завтра была война. И как утверждал поэт-фронтовик Давид Самойлов: «Понятие о неминуемой совместной жизни, о взаимопомощи, о приспособляемости и контактности очень помогало «детям коммуналок» на фронте. Война привела к новому витку уплотнений. Эвакуированные подселялись в густонаселенные коммунальные квартиры, а вернувшись домой, обнаруживали свои комнаты занятыми новыми владельцами. Эта участь постигла даже фронтовиков, несмотря на то что жилплощадь закреплялась за ними по закону. Целым семьям приходилось жить в землянках и бараках – даже к началу 1952 года в бараках проживали 3 миллиона 758 тысяч человек, и комната в коммуналке в этих условиях была везением.
Без цепочек и глазков
Жилья катастрофически не хватало и в 60-е. «Все жили вровень скромно так – система коридорная. На 38 комнаток – всего одна уборная», – пел выросший в коммуналке на Первой Мещанской Владимир Высоцкий.Быт советской интеллигенции в 1960-х годах отличался скромностью и непритязательностью. Первое место прочно занимала работа. На личную жизнь оставалось совсем немного времени и средств. «Получала около 90 рублей в месяц. Жила в это время с родителями. На самое необходимое мне хватало. Наша повседневная пища была простой: каши, супы, компоты, картофель, макаронные изделия, винегрет. По праздникам – салат «Оливье», студень, тушеная картошка с мясом, пироги, Одежда у меня была самая обыкновенная» – это цитата из дневника московской учительницы, датированная 1963 годом. Чтобы одеваться в соответствии с модными тенденциями, учительница предпочитала экономить на еде и других вещах, но к новому учебному году или к празднику старалась купить себе шелковое платье, туфельки или сапожки.
...Постепенно страна отстраивалась. «Вороньи слободки» вспоминались с теплотой и любовью. Злая сатира сменялась лирикой о «золотом соседстве». Как писал в 1983 году Евгений Евтушенко: «Плачу по квартире коммунальной, многолюдной и многострадальной. По ее доверчиво-рисковой двери бесцепочной, безглазковой...». Тогда же вышла на экраны элегическая комедия «Покровские ворота», навсегда окутавшая коммунальный быт флером романтики.
Автор: Анастасия Соловьева
Городские новости, № 36
Городские новости, № 36
Другие новости раздела «Из истории»

Из истории
21 ноября 2013
Красное знамя для юных артистов

Из истории
15 ноября 2018
Ученые выяснили, как хоронили древних ярославцев

Из истории
09 июля 2014
Там, где бывал поэт

Из истории
14 декабря 2020
В Ярославле открылась выставка «Окрыленные»

Из истории
13 апреля 2016
Купцы Лопатины трижды возглавляли думу
Свежий номер

Из истории
29 июня 2016
Автопробегом от Ярославля до Сочи

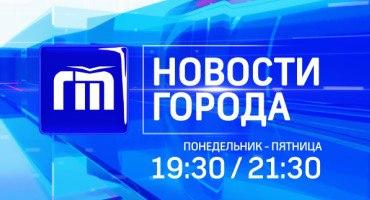

Комментарии